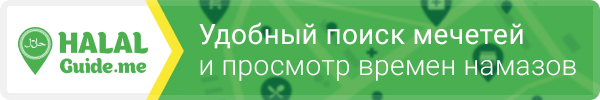Когда переводишь великих — сам становишься выше!
25.04.2007 16:24
19 ноября 2006 года московскому поэту и переводчику восточной поэзии Михаилу Синельникову исполнилось 60 лет.
19 ноября 2006 года московскому поэту и переводчику восточной поэзии Михаилу Синельникову исполнилось 60 лет. Самый долгожданный подарок к этому дню он получил чуть ранее от азербайджанцев«инкогнито», давших средства на публикацию его давно подготовленной рукописи — полного собрания стихов великого Хакани, классика азербайджанской поэзии XII века, писавшего поперсидски. Предлагаем нашим читателям поближе познакомиться с самим Михаилом Синельниковым — поговорить с ним о тяготах и прелестях переводческого ремесла. О том, что поэзия — открытый путь к пониманию Ислама. О том, как русских поклонников Хафиза, Хайяма и Саади тянет на мусульманский Восток.
«Вспомним детство, угостимся вишневым соком», — с этого милого предложения в полуподвальчикекафе московского Центрального дома литераторов началась наша встреча, и я сразу понял, что мы быстро поймем друг друга. «Вот для вас мои переводы, которые еще никто не печатал. Но, наверно, к ним нужен какойто ученый комментарий?»
Нет, мне хотелось больше порасспрашивать о самом поэте и его «кухне». Какникак, человек вот уже тридцать лет служит своим талантом поэтической Персии!
 — Начну жестко: возможно ли это вообще — переводить поэзию,
в принципе?
— Начну жестко: возможно ли это вообще — переводить поэзию,
в принципе?
— Я не оченьто верю в переводимость поэзии. Однако хороший перевод — это чудо, и оно, естественно, не может быть правилом. При этом я верю в другое — в переводе может возникнуть новое явление Поэзии, в котором будут узнаваемы черты оригинального сочинения.
В любом случае прав Мандельштам: «Переводчик — это могучий истолкователь автора». Поэзия всегда — наш вопрос к Творцу, и перевод не столько повторение этого вопрошания, сколько некий «второй голос», отклик в другом языке.
— Когда вы стали работать над персидской классикой и почему?
— В семидесятые годы я, как и многие тогдашние поэты при советской власти, был вынужден подрабатывать переводами. Мне посчастливилось, помимо поденщины, прикоснуться к истинно живому наследию — прежде всего грузинскому и персидскому. Посчастливилось начать вместе с великим Арсением Тарковским.
— Но ведь поэты обычно чураются такой работы, утверждая, что она отнимает и энергию, и время от собственного сочинительства? Переводчик убивает в себе поэта… «Ах, восточные переводы, как болит от них голова!» — восклицал Тарковский.
— Да, энергии уходит масса. Да, если ты чувствуешь призвание самому сказать в Поэзии оригинально и индивидуально — переводы в тягость. Но есть и другая сторона, оказывается.
Если переводишь великое — сам получаешь от него и силу, и вдохновение. Так, я уверен, позднее творчество самого Тарковского насыщено тем опытом, который он получил, переводя туркмена Махтумкули и араба Абдуль Аля АльМаари. Так же напитался у гениев и Пастернак, а ранее Пушкин.
 — А вы?
— А вы?
— К персидской классике я пришел не сразу. Вопервых, тогда надо было заполучить определенный профессиональный авторитет — но это внешний фактор. А вовторых, надо было созреть внутренне для такой встречи. Для меня Персия в лице ее поэтов — это скала, опора всей мировой поэзии: она чрезвычайно изощренна, многообразна, ее словарь беспределен, формы отточены, звукопись удивительна… бездны и бездны.
А более всего мне стал близок Хакани, над которым я трудился с 1984го по 1986 годы. В итоге издательством «Наука» (восточное отделение) пятидесятитысячным тиражом вышла книга его лирики в 1985 году — «Ветер в руке». Но потом я подготовил к печати в Большой серии «Библиотеки поэта» том Хакани, по сути, полный его «Диван» (собрание стихотворений) порусски. Это десять тысяч строк. Плюс серьезнейшая редактура и научное сопровождение: вступительная статья профессора Нури Османова и комментарии иранистов Наталии Чалисовой и Лейлы Лахути. Воистину, мне не стыдно за этот труд! Лучшая работа моей жизни, во время которой я умирал и воскрес.
Хакани — это Данте Востока, и я уверен, что на автора «Божественной комедии», который читал в Сорбонне арабские и персидские сочинения, повлияла именно поэма Хакани «Дар двух Ираков» — этот захватывающий «репортаж» о Солнце и Луне, о героях древности и современниках, «репортаж» во время хождения в Мекку и Медину.
В 1990е годы с крахом СССР обрушилась вся система публикаций такого рода — и подготовленная мною рукопись пролежала более десяти лет. Наконец, как вы знаете, ее помогли выпустить соотечественники Хакани, из благородства запретившие мне называть их имена. Ведь это их дар великому поэту, дар своим детям и внукам. Дар во имя Аллаха, в конце концов!
— Вот как странно распорядилась судьба: в советское подцензурное время сложилась целая школа блестящих переводчиков. Говорят, такой не было и нет ни в какой другой литературе мира… Кто там был самым лучшим и возможно ли продолжить их традиции новому поколению поэтов и филологов?
— Вряд ли возможно повторить то, что было. Тот опыт уникален. И, скорее всего, традиция может продолжиться — но под влиянием какихто иных мотиваций. Однако ведь в искусстве подлинное не умирает — то, что было сделано, будет читаемо очень долго. Русская поэзия «из Персии», или персидская, выраженная порусски, — уже факт большой литературы. Этими плодами будем еще долго питаться!
А вот, по моему мнению, кто достиг удивительных результатов на этом поприще. О Тарковском я уже говорил. Хайям у Тхоржевского — выдающийся, хотя ктото считает, что его переводы слишком «вольные». Но для меня в них «много воздуха», что и прекрасно. Герман Плисецкий — тоже явление, высоко техничен он и даже жесток. Вот почему по мне в Хайяме «нужен воздух». Замечателен Хафиз у Александра Кочеткова — этого поэта все знают по уже буквально народному «С любимыми не расставайтесь!», прославившемуся в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром». Семь стихов Хафиза — мало, но как сильно! Прекрасны персы у Аделины Адалис, которую Мандельштам ставил вслед за Цветаевой. И еще — Заболоцкий с его любимым таджиком Саидоном Сафи (как они оба ценили и прославляли Ремесло!). И еще — Сельвинский… и другие… одним словом, удачи, расцвет целой школы! Как явление это уже не повторится.
— В литературах современного Запада принято теперь не обращать внимания на размер оригинала — и все переводить свободным стихом. Почему вы ищете строгого соответствия таким архаичным упорядоченным формам, как газель, касыда, рубаи?
— Прежде всего, переводы в формах верлибра свойственны французской поэзии — они стали виртуозными пересказчиками любого материала, но безо всякого интереса к особенностям звукописи в оригинале. Случилось это так, в общемто, изза двух причин. Извините, но в поэзии XX века на Западе вообще почти угас интерес к силе стиха, именно к его силе. А она содержится в строгих формах, с их рифмами и особыми правилами. Но, кажется, интерес к сильному стиху все же возвращается.
Русские переводчики в целом не поддались этому поветрию. У нас в языке столько возможностей, в том числе — богатство рифм, каких нет, к примеру, во французском. Почему же это богатство не задействовать? Да, это трудно. Да, формы мусульманской поэзии строги, как и каллиграфия и архитектурный орнамент. Я даже, работая над огромной касыдой Хакани, взмолился однажды к Всевышнему: «О Боже, помоги мне с рифмами! их нужно 90 для этого стихотворения!» И пришло именно 90 рифм, еще бы одна была мне не по силам.
В речи арабов, в формах их поэзии, переданной и обогащенной персами — огромная мощь. Это звук, краска, смысл, сила! Недаром ведь Пушкин утверждал, что русская душа «всемирно отзывчива» — мы средствами русской поэзии можем войти в этот исламский поэтический мир.
— Кстати, вы ведь еще много лет занимались собиранием «исламских мотивов у русских поэтов» — я помню ваши краткие и выразительные эссе в издаваемом АПН бюллетене «Исламский вестник».
— Десятки статей написал я об этом — как, после столетий отчуждения и даже вражды, поэты России стали познавать Ислам, от Державина до наших дней. Позднее в двух номерах лучшего на сей день поэтического журнала «Арион» я опубликовал по сути монографию на эту тему. Хотелось бы в дальнейшем издать и антологию.
 — А когда и как вы впервые соприкоснулись с миром Ислама?
— А когда и как вы впервые соприкоснулись с миром Ислама?
— В детстве. Я родился в Ленинграде в 1946 году в семье, перенесшей блокаду. Папа был военным журналистом, а мама — директором детского дома для блокадных детей. Кстати, именно по ее родовой линии гдето в тумане веков видны касимовские татары — мои предки, очевидно, всетаки казахи, пришедшие в Касимов.
Так вот, после войны мы переехали в Ферганскую долину, в Киргизию, в Джелалабад — городишко маленький, но наполненный тогда интересными людьми. То были всякие «ссыльные» от советской власти, генералы старые, разные народы — турки, корейцы… А французскому языку меня учила дочь бывшего петербургского губернатора.
Я благодарен своему детству на Востоке — такому яркому, праздничному, оно наполнило меня на всю жизнь чувством удивления, ощущением Чуда. Это чувство религиозное. Землю, на которой я рос, я воспринимал как «Аллахову землю». Конечно, повлияли и сказки восточные — я как бы сам жил в них. Но также я много видел истинно верующих людей, мулл, просто людей, совершающих намаз. Вообще же я тогда почувствовал, а потом и убедился, что традиции мусульманских народов чрезвычайно жизнестойки и их не разрушит никакая «цивилизация консервных банок». Мусульмане чтут тайну и красоту мира, любят детей — а как современный Запад комфортен, но бездетен!
А Коран русский, от Николаева, был у нас в доме, у отца. И я его читал уже в школе. Правда, сразу понял, что многого в нем осознать не смогу. Поэтому читал много лет (и сейчас тоже) — с карандашом в руке. И делаю такие пометки: «место непонятное», «а вот это понял тогдато и такто!»
 — Неужели в советское время в Ферганской долине вера цвела
и была свободной?
— Неужели в советское время в Ферганской долине вера цвела
и была свободной?
— Я полюбил Восток вообще и мусульман тех мест особо. То был праздник детства. Но на моих же глазах совершилось ужасное — в 1960е годы Хрущев затеял по всей стране антирелигиозные акции, и у нас в Оше, на Сулеймангоре снесли столетиями бережно хранившийся маленький белый домикмечеть Бабура, с куполом и полумесяцем! И водрузили на железном каркасе огромный портрет Ленина. А я на этой горе любовался Курбанбайрамом…
И все же этот советсковосточный опыт дал мне многое, сделал интернационалистом. И уже тогда я стал верующим человеком. Помните, как говорится в Коране о маловерных и сомневающихся: «Если даже покажут им, как небо нисходит на землю, — скажут, что это лишь плотное облако…» И тогда же, смею думать, стал я поэтом.
— И все же вы не слились с исламской общиной, остались всецело в рамках, формах, традициях русской православной культуры…
— Я многое в жизни воспринимаю сквозь опыт Корана и того жизненного мусульманства, которое запечатлелось с детства. Знаете, кстати, что одна из риз на окладе рублевской «Троицы» сделана из персидской ткани со стихами Хафиза о любви Красавицы? Помните ли, насколько наш русский быт исконно пронизан Исламом, принесенным из Золотой Орды, да и из Персии? Для меня это — единый мир, и прекрасный мир.
Кстати, о подобном синтезе западного и восточного, мусульманского я прочитал недавно в переписке иранистов 1930‑х годов — сына знаменитого Марра и Чайкина. Они удивляются синтетическому мировоззрению Руставели, Низами и Хакани — для них были дороги как Пророк Иса, так и Коран, они создали некое новое экуменическое пространство раннего Ренессанса в Закавказье. И мне тоже близки их веротерпимость, многонациональность, поликультурность, открытость.
— Вы упомянули образ Красавицы — давайте попробуем разобраться. Общеизвестно, что персидская классика пронизана суфийской многозначностью. «Одно пишем — два в уме», как говорится. Возможно ли читающему порусски воспринять правильно такую поэзию?
— Да, очень часто Красавица — это Сам Всевышний, а слезы и восклицания влюбленного — жажда приблизиться к Аллаху. Вино — как правило «духовное вино», освобождение от пошлого, приземленного разума. Бражничество, кабак у того же Хайяма — философская беседа истинных друзей… Но ведь Иран при этом — страна классического виноделия, люди реально влюблялись друг в друга и воспевали земную любовь. Один и тот же образ имеет один, два, три и более смыслов и подтекстов — каждый раз конкретно.
В этом трудность чтения для людей с иными языковыми и образными привычками. Но и этой своей трудностью и полифоничностью притягательна для нас великая поэзия Персии! Читайте, погружайтесь… наслаждайтесь.
— Но как объяснить, почему Красавица так часто беспощадна, властна и сурова? Прямо, извините за простодушие, мегера какаято …
— Возлюбленная — как бы «иероглиф Аллаха». Она обладает притягательностью, силой, влекущей человека, — сила эта воистину страшна. И Сам Всевышний тоже небезразличен к человеку. Он тоже ждет и жаждет достойного ответа от человека.
Трудно эти чувства передавать сухой прозой, какимито «логичными» объяснениями — это сфера, открытая только поэзии.
— А все ли лучшее из персидской поэзии переведено?
— Такие оценки давать очень трудно. Эта поэзия буквально подавляет своим величием и… обилием гениев. Гете както заявил: «Да, в Иране найдется человек восемь таких, как я!» Не надо только понимать это буквально — это кокетство гения. Но Гете прав: если Запад дает 10–12 гениев поэзии, то на Востоке их гораздо больше.
И эта поэзия, хоть и создана столетия назад, все еще жива. Кстати, и поэты «второго ряда» там по нашим меркам — великие. Вот, допустим, что произошло с Хайямом — его на Западе полюбили и превознесли в определенный момент развития, в пору декаданса — но для Персии он вовсе не такой важный и сильный…
— Трудно предсказать, «как наше слово отзовется» в чужой поэзии. Но ведь бывали случаи, когда стихотворение было малозаметным в контексте своей культуры — но становилось шедевром, будучи переведенным на иной язык! Самые яркие в России примеры — грузинская песня XII века переводится на шотландский, но в XIX столетии порусски превращается в «Вечерний звон»… а «Сельское кладбище» английского романтика Грея вообще открывает лирику порусски…
— Такие случаи не так уж исключительны. «Выхожу один я на дорогу» Лермонтова в немецком переводе Рильке стал дважды шедевром, в двух языках. А «Синий цвет» — замечательное стихотворение грузина Бараташвили — стало шедевром только порусски благодаря Пастернаку.
Вот о таких, в частности, чудесах поэзии и сказано в Коране: «Я сотворил вас народами и племенами, дабы вы познавали друг друга»!
Джаннат Сергей Маркус






 RSS
RSS